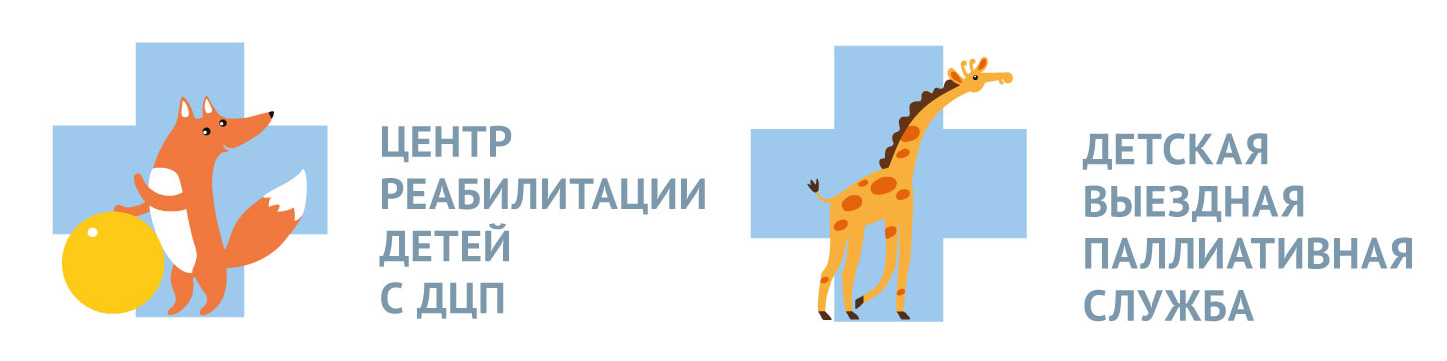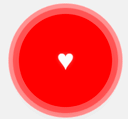Паллиативный врач: помочь детям, которых нельзя вылечить
05.08.2025
Врач — это специалист, который занимается профилактикой и лечением конкретных заболеваний. Но детям, которых нельзя вылечить, тоже нужны врачи.
Специалисты паллиативных служб помогают улучшить качество жизни ребенка с неизлечимой болезнью и всей его семьи. Для этого работают врачи, медсестры, психологи, физические терапевты.
В Марфо-Мариинском медицинском центре «Милосердие» действует Детская выездная паллиативная служба – в этом году исполнилось 14 лет ее работы.
О том, легко ли быть паллиативным врачом об особенностях работы в детском паллиативе, радостях и трудностях профессии рассказала педиатр службы Наталья Сергеевна Куксина.
Текст: Евгения Лобаева, Мария Стрижевская Фото: Из архива Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие».
Паллиатив – это не мое
– Расскажите, как вы стали врачом?
– Я рано закончила школу, в 16 лет, и в свой первый вуз – МГУ им. Ломоносова — поступила просто за компанию, на факультет почвоведения. В процессе обучения поняла, что это не мое. Мне с подросткового периода было важно приносить людям пользу. На своем факультете я не придумала, как смогу это сделать. На 3 курсе начались поиски.
Я рано вышла замуж, жили мы с мужем отдельно и нужно было работать. Без высшего образования мало куда брали, и я нашла вакансию санитарки в больнице. В этот же время я стала волонтером в онкоцентре на Каширке.
Все это привело к тому, что я захотела быть врачом. И, учась на 4 курсе МГУ, я поступила в медицинский университет имени Н. И. Пирогова на педиатрический факультет. По его окончании семь лет проработала в детской поликлинике: важно было работать рядом с домом, чтобы забирать детей из школы. Я и дальше бы там работала, но в какой-то момент стало очень сложно из-за большого количества бумажной работы: из-за постоянной писанины не оставалось времени на пациентов. Запомнилось, как в мой кабинет постучал пациент, и я почувствовала раздражение: не хочу, чтобы заходили, мне надо писать. Это же ненормально. И я стала искать другую работу.
– Как вы оказались в Паллиативной службе?
– Еще в бытность свою волонтером в онкоцентре им. Н.Н. Блохина я общалась с больными детьми, их родителями, помогала с доставкой расходных материалов: было непросто, но интересно. А потом у меня родился ребенок, и происходящее с нашими пациентами я начала пропускать через себя. Стало настолько тяжело, что я ушла, решив, что паллиатив – это не мое.
Поэтому, когда мне после размещения резюме на сайте по поиску работы, предложили вакансию врача в Детской выездной паллиативной службе, я сразу отказалась. В паллиативе пациенты не выздоравливают, в тот момент я была к этому не готова. Но врач Марфо-Мариинского медцентра, которая видела мое резюме, попросила просто прийти познакомиться. Так я оказалась в Марфо-Мариинской обители: пришла объяснить, что я не готова к подобной работе. А в результате вместо отказа я согласилась. Выбрала это место сердцем.
– Какими были первые впечатления от работы?
– Первое время было тяжело. В Детской выездной паллиативной службе заботятся о неизлечимо больных детях, поэтому мне было сложно оценить эффективность своей работы. Нашим маленьким пациентам больше нужны психологи, собеседники, те, кто могут поддержать морально, тогда я воспринимала это так. А я как врач здесь не реализовываюсь. Увидеть себя в этой сфере было непросто, не раз были попытки уйти и не сразу пришло понимание, зачем я здесь нужна.
– Что вы поняли?
– Когда работаешь с неизлечимо больными детьми, то со временем видишь, что они – такие же пациенты, которые прямо сейчас нуждаются в решении своих проблем. Если человек пришел в этот мир, он здесь нужен. В том числе для того, чтобы мы были рядом с такими пациентами и сами менялись.
Я перестала брать на себя функцию судить – кому врачебная помощь нужнее. Любой человек, вне зависимости от серьезности заболевания, заслуживает жизнь без боли. И в моих силах сделать так, чтобы ребенок не страдал – облегчить симптомы болезни.
Во многом Господь помог мне прийти к этому пониманию. Поэтому сейчас я на работе больше не выгораю, исчезло ощущение ее бессмысленности.
Кроме того, детский паллиатив отличается от взрослого. Взрослый в основном ориентируется на онкологические или специфические возрастные заболевания. У наших маленьких пациентов чаще всего, неврологические патологии: детский церебральный паралич, последствия черепно-мозговых травм, или генетические, т.е. тяжелые врожденные заболевания. В детском паллиативе дети умирают нечасто.
Многих по достижении ими совершеннолетия мы передаем врачам «для взрослых». Поэтому, когда у человека в перспективе долгая жизнь, нужно сделать все, чтобы он прожил ее без мучений.
– Чем непосредственно Вы занимаетесь в течение рабочего дня?
– Следим за общим состоянием ребенка, подбираем питание, обезболиваем, по необходимости снимаем острые симптомы. Раз в неделю все наши сотрудники собираются вместе и обсуждают каждого пациента. По результатам работы оформляем документацию.

Помогать ребенку мы можем только через маму
– Вам тяжело – сталкиваться со смертью, видеть страдания детей? – Гораздо тяжелее смотреть, как страдают их мамы. Некоторые дети в силу особенностей заболевания не осознают своего состояния. А мама часто буквально «хоронит» себя вместе с ребенком, полностью «приковывает» себя к нему, озлобляясь при этом на весь мир. В таком случае трудно бывает помочь и ребенку. Мама в таких случаях к нему никого не подпускает, никому не доверяет. И мы уже поняли, что залог нашей эффективности – как можно раньше начинать работать с семьей. В идеале мы должны подключаться в тот момент, когда ребенку только поставили диагноз. Если в это время помочь маме с сиделкой и привести к ней психолога, то есть шанс, что она не разрушит свою жизнь. Тогда через маму мы сможем помочь и ребенку. Бывает, что пациент живет с неизлечимым заболеванием 10-12 лет. И мама за эти годы выгорает совершенно. Мы тратим огромное количество сил, пытаясь вызвать у нее доверие, чтобы хоть как-то помочь ребенку. Но 80-90% наших усилий ни к чему не приводят. У нас есть множество способов облегчить жизнь ребенка: например, детям, у которых проблемы с глотанием, мы можем поставить гастростому, и тогда кормление займет не несколько часов, как обычно, а 15 минут. – Вы говорите больше про мам, а как же папы? – Редко, когда о паллиативном ребенке заботятся об родителя. Папы чаще, увы, уходят – или из семьи, или на работу, или в другие активности. Хотя бывают счастливые исключения, когда и семья сохранена, и родители живут полной жизнью. – У вас довольно энергозатратная работа. Где вы берете силы? – Не могу сказать, что я специально что-то для этого делаю, скорее, просто такой живой характер. Я занимаюсь спортом, активно провожу время со своими детьми, рисую. У меня много друзей, общения помимо работы. Для меня очень важно путешествовать. Поездка на три-четыре дня помогает перезагрузиться. – Вы могли бы порекомендовать студентам медицинских университетов идти в паллиатив? – Если человек чувствует в себе силы и потребность помогать неизлечимо больным, надо пробовать. Может, получится, но, может, и нет. У нас пять лет работала замечательный доктор и со слезами ушла — настолько ей стало тяжело.
Помогать ребенку мы можем только через маму
– Вам тяжело – сталкиваться со смертью, видеть страдания детей? – Гораздо тяжелее смотреть, как страдают их мамы. Некоторые дети в силу особенностей заболевания не осознают своего состояния. А мама часто буквально «хоронит» себя вместе с ребенком, полностью «приковывает» себя к нему, озлобляясь при этом на весь мир. В таком случае трудно бывает помочь и ребенку. Мама в таких случаях к нему никого не подпускает, никому не доверяет. И мы уже поняли, что залог нашей эффективности – как можно раньше начинать работать с семьей. В идеале мы должны подключаться в тот момент, когда ребенку только поставили диагноз. Если в это время помочь маме с сиделкой и привести к ней психолога, то есть шанс, что она не разрушит свою жизнь. Тогда через маму мы сможем помочь и ребенку. Бывает, что пациент живет с неизлечимым заболеванием 10-12 лет. И мама за эти годы выгорает совершенно. Мы тратим огромное количество сил, пытаясь вызвать у нее доверие, чтобы хоть как-то помочь ребенку. Но 80-90% наших усилий ни к чему не приводят. У нас есть множество способов облегчить жизнь ребенка: например, детям, у которых проблемы с глотанием, мы можем поставить гастростому, и тогда кормление займет не несколько часов, как обычно, а 15 минут. – Вы говорите больше про мам, а как же папы? – Редко, когда о паллиативном ребенке заботятся об родителя. Папы чаще, увы, уходят – или из семьи, или на работу, или в другие активности. Хотя бывают счастливые исключения, когда и семья сохранена, и родители живут полной жизнью. – У вас довольно энергозатратная работа. Где вы берете силы? – Не могу сказать, что я специально что-то для этого делаю, скорее, просто такой живой характер. Я занимаюсь спортом, активно провожу время со своими детьми, рисую. У меня много друзей, общения помимо работы. Для меня очень важно путешествовать. Поездка на три-четыре дня помогает перезагрузиться. – Вы могли бы порекомендовать студентам медицинских университетов идти в паллиатив? – Если человек чувствует в себе силы и потребность помогать неизлечимо больным, надо пробовать. Может, получится, но, может, и нет. У нас пять лет работала замечательный доктор и со слезами ушла — настолько ей стало тяжело.
О своей работе
— Вы работаете в Детской выездной паллиативной службе уже 6 лет. Какие изменения произошли в работе службы за это время? – Мы растем профессионально. В начале была маленькая компания людей, которые просто очень хотели помогать детям, но мало что знали. Постепенно вместе с другими подобными службами мы пришли к пониманию, как это делать правильно, каких специалистов подключать. Например, сейчас одно из важнейших направлений работы нашей службы — это ЛФК (лечебная физкультура). Сейчас ЛФК-терапевты – самые востребованные специалисты. Они помогают подбирать коляски и подушки, проводят занятия. А раньше мы даже не понимали, насколько нам нужны такие специалисты. Мы поняли огромное значение работы психологов. Сейчас это самое многочисленное подразделение в нашей службе. Раньше вся их работа ложилась на врача, приходилось постоянно быть с мамой на связи и чаще даже не по медицинским вопросам. Из небольшой благотворительной организации мы постепенно становимся профессионалами. – Вы меняетесь самостоятельно, интуитивно или это связано и с изменениями в стране? – На самом деле,за последние 10 лет произошли большие изменения в паллиативной сфере, как в нашей стране, так и по всему миру. Сейчас появилось много обучающих программ всех уровней – для врачей, медицинских сестер, добровольцев. Появилось много разной полезной литературы. Существует множество государственных паллиативных служб при детских больницах. – Чем Вам нравится работа в Марфо-Мариинской обители? – Здесь радостно,мы все стараемся жить и относиться друг к другу и к пациентам по-христиански. Еще здесь все удивительно как-то само управляется. Наша служба должна была давно закрыться — столько мы кризисов пережили. Вся помощь в медцентре оказывается бесплатно, благотворителей сейчас найти непросто. И тем не менее, всегда находятся средства, решения. Наверное, какую-то пользу мы приносим детям, раз Господь дает нам возможность потрудиться. Как перестанем, то и служба прекратит свое существование. – С какими сложностями сталкиваетесь в работе? – Сложно наладить взаимоотношения с разными паллиативными службами. Поясню: у наших пациентов нет ограничений, у кого наблюдаться. Поэтому параллельно с нами к ребенку могут приходить специалисты из других паллиативных служб. Часто получается, что врачи противоречат друг другу. И мы, вроде, не можем отказаться от семьи, потому что некоторые виды услуг маме просто необходимы, например, сиделка – они есть далеко не во всех службах, но в то же время какие-то вещи у нас дублируются. Обидно, что часть ресурса мы тратим впустую. А договориться пока не получается. – Как дети попадают в Детскую выездную паллиативную службу? – Так как служба небольшая, то чаще всего по рекомендациям. Семьи, с которыми мы работали, рекомендуют нас другим. Они же все пересекаются в больницах. Также про нас, например, знают в НИИ неотложной хирургии и травматологии, куда попадают дети после тяжелых травм. Когда детей выписывают, то стараются передать их в соответствующие службы, чтобы уход продолжался. Больница сама на нас выходит. – Бывает, что вы привыкаете к детям? Как справляетесь, когда ребенок уходит? – Конечно, привыкаем и переживаем. Мы же живые люди. Недавно умерла девочка, которая у нас наблюдалась с момента основания службы. Мы все с ней работали и фактически стали родными людьми с семьей. Для нас всех это было непросто. Но с другой стороны, всем вместе нам было легче пережить эту потерю. Мы и после смерти ребёнка стараемся не терять с семьей контакт. Наши социальные работники и психологи продолжают какое-то время семью сопровождать. Чтобы у них не было ощущения, что про них все забыли сразу, как ребенка не стало. Надеюсь, что мы будем иметь возможность развиваться и оказывать помощь нашим подопечным и дальше.Читайте и другие новости Марфо-Мариинского медицинского центра
© ЧУЗ Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие», 2010 — 2025 . Все материалы сайта mc-miloserdie.ru защищены авторским правом.
При копировании, воспроизведении, цитировании и другом использовании материалов сайта ссылка на mc-miloserdie.ru обязательна.
Cайт может содержать материалы третьих сторон, защищенных авторскими правами.